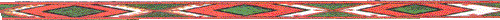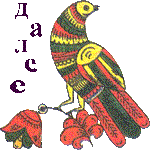
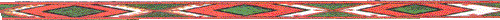
Народное отношение к одежде
"Наг поле перейдет, а голый ни с места", - говорит пословица. У В.И.Даля та же пословица написана наоборот и утверждает, что "Поле перейти легче голодному, чем неодетому". Два на первый взгляд противоположных варианта пословицы отнюдь не мешают друг другу, просто они отражают две стороны одной и той же медали. Нигде, как в одежде слились воедино два человеческих начала: духовное и материальное. Об этом говорит и бесчисленный ряд слов, так или иначе связанных с понятием одежды. Одежду в народе и до сих пор называют "оболочкой", одевание - "оболакиванием". Оболакиваться - значит одеваться. В терминах этих звучит нечто зыбкое, легкое, временное, напоминающее преходящую красоту небесного облака. Народное отношение к одежде всегда подразумевало некоторую усмешку, легкое пренебрежение, выражаемое такими словами, как "барахло", "хламида", "рухлядь", "тряпки". Но всё это лишь маскировало, служило внешней оболочкой вполне серьёзной и вечной заботы о том, во что одеться, как защитить себя от холода и дождя, не выделяясь при этом как щегольством, так и убогостью, что одинаково считалось безобразным. В этом и заключалась цельность народного отношения к одежде, сказывающегося в простоте, чувстве меры, экономической доступности, в красочности и многообразии. Эстетика крестьянской одежды на русском Севере полностью зависела от национальных традиций, которые вместе с национальным характером складывались под влиянием климатических, экономических и прочих условий. Народному отношению к одежде была свойственна, прежде всего, удивительная бережливость. Повсеместно отмечался сильнейший контраст между рабочей и повседневной одеждой (не говоря уже о разнице между будничной и праздничной) как по чистоте, так и по добротности. Чем безалабернее, чем бесхозяйственней и безответственней было целое семейство или отдельный человек, тем меньше чувствовался и этот контраст. Некоторые тут же назвали бы всё это скопидомством, стремлением к накопительству. Но чему же тут удивляться? И надо ли вообще удивляться, когда крестьянин бережно поднимает с пола хлебную корочку, за полкилометра возвращается обратно в лес, чтобы взять забытые там рукавицы? Человека с младенчества приучали к бережливости. Замазать грязью новые, впервые в жизни надетые штаны, потерять шапку или прожечь дыру у костра было настоящим несчастьем. Рубахи на груди рвали одни пьяные дураки. Костюм-тройку в крестьянской семье носило два, а то и три поколения мужчин, женскую шерстяную пару также донашивала дочь, а иногда и внучка. Платок, купленный на ярмарке, переходил от матери к дочке, а если дочери нет, то к ближайшей родственнице. Купленную одежду берегли особенно. Холщовая, домотканая одежда тоже давалась непросто, но она была прочней и доступней, поэтому её необязательно было передавать из поколения в поколение, она как хлеб на столе, была первой необходимостью. Одежда для девушки, да и для парня много значила, из-за неё не спали ночами, зарабатывали деньги, подряжались в работу. Многие стеснялись ходить на гулянья, пока не заведут женскую пару или мужскую тройку. Полупальто для парня (его называли и верхним пиджаком) и сак для девушки тоже дело серьезное. Едва ребенок начинал ползать, а затем и ходить вдоль лавки, мать, сестра или бабушка шили ему одежду, предпочтительно не из нового, а из старого, мягкого и обношенного. Форма детской одежды целиком зависела от прихоти мастерицы. Но чаще всего детская одежда и обувь повторяли взрослую. Ребенок, одетый по взрослому с точностью до мельчайших деталей, вроде бы должен вызвать чувство комического изумления. Но в том то и дело, что в крестьянской семье никогда не фамильярничали с детьми. Оберегая от непосильного труда и постепенно наращивая физические и нравственные тяжести, родственники были с людьми серьёзны и недвусмысленны. Одинаковая с взрослыми одежда, одинаковые предметы (например, маленькие орудия труда) делали ребенка как бы непосредственным и равноправным участником повседневной крестьянской жизни. Чувство собственного достоинства и серьёзное отношение к миру закладывалось именно таким образом в раннем детстве, но это отнюдь не мешало детской беззаботности и непосредственности. Одетый как взрослый ребенок и жить старается как взрослый. Преодолевая чувство зависти к более старшему, получившему обнову, он гасит в своём сердечке искру эгоизма. И, конечно же, учится радоваться подарку, привыкая к бережному, любовному отношению к одежде. В больших семьях обновы вообще были не очень часты. Одежда (реже обувь) переходила от старшего к младшему. Донашивание любой одежды считалось в крестьянской семье просто необходимым. То, что было не очень нужным, обязательно отдавали нищим. выбрасывать считалось грехом, как и покупать лишнее.
 |
 |
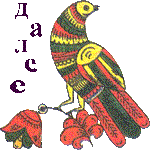 |